 Рисунок Дмитрия Петрова
Рисунок Дмитрия ПетроваВ России проживают около 100 тысяч мигрантов из дальнего зарубежья. 40 тысяч из них - начальники, и россиянам приходится работать под их руководством. Иногда от культурных различий страдают работники, а иногда и самому начальству приходится лично готовить завтраки работникам - для приучения к пунктуальности.
НАЧАЛЬСТВЕННЫЕ ИНОСТРАНЦЫ
Обычно наша газета пишет о трудовых мигрантах из ближнего зарубежья. А между тем в России работают более 100 тысяч специалистов из стран “дальнего зарубежья”, так называемых экспатов. В том числе 40 тысяч - на руководящих постах, 20 тысяч - высококвалифицированные специалисты. За последние 25 лет появилась целая индустрия: рынок труда со своими традициями, правилами, расценками. В крупных городах появились кафе, клубы и даже кварталы для экспатов. Происходит взаимовлияние различных трудовых и управленческих культур: накапливается обмен опытом, взаимный интерес, а порой - и взаимное раздражение.
Исследование этой группы трудовых мигрантов провел Фонд поддержки социальных исследований “Хамовники”. 20 мая результаты этой работы были представлены на круглом столе “Экспаты на российском рынке труда”.
- Так ли значимы экспаты для российского рынка труда? - задал риторический вопрос один из авторов исследования, Владимир Карачаровский, доцент НИУ “Высшая школа экономики”. - На первый взгляд, не очень. Ведь их всего около 100 тысяч. Однако большинство из них являются начальниками для россиян. А в России 5,1% населения работает в компаниях с иностранным капиталом. И более того, эти компании контролируют почти 31,2% российского рынка товаров и услуг.
КОЛИЧЕСТВО ЭКСПАТОВ СОКРАЩАЕТСЯ
За год исследования в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске проведено 150 интервью с экспатами из ключевых отраслей российской экономики, от рядовых специалистов до представителей топ-менеджмента. Среди респондентов - выходцы из Европы, Северной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии.
Что же показало исследование? В первую очередь тот факт, что рост количества экспатов пропорционален росту иностранных инвестиций. Количество работающих в России экспатов плавно возрастало с 2000 года, сменившись в 2004 - 2005 годах бурным всплеском интереса к работе в стране. Так, в 2000 - 2008 годах число профессионалов из таких стран, как Великобритания, Германия, Франция, Италия, выросло в 3,5 - 4 раза, из США - почти в 3 раза. Но активная фаза мирового финансового кризиса 2008 - 2009 годов наложила существенный отпечаток на этот процесс, развернув его в обратном направлении: к настоящему моменту количество иностранных специалистов из стран - лидеров мировой экономики, официально работающих в России, упало ниже уровня 2000 года.
Из каких стран дальнего зарубежья к нам едут чаще? По данным Росстата, в 2012 году в России работали 800 граждан США, подданных Великобритании - 600, граждан Германии - 900. Если рассматривать все страны Евросоюза, то из этих стран число профессионалов, официально работавших в России, за 2008 - 2012 годы сократилось в 4,6 раза: с 35,3 тысячи до 7,8 тысячи человек, что почти в три раза ниже уровня 2000 года.
С чем это связано? В первую очередь, по мнению собравшихся экспертов, с сокращением иностранных вливаний в экономику России. Количество экспатов растет только в наиболее конкурентоспособных отраслях.
- То, что в последнее время количество экспатов сократилось, - очень негативная тенденция, - считает Овсей Шкаратан, ординарный профессор НИУ “ВШЭ”. - Это означает, что не развивается высокотехнологичное производство. Да и не только высокотехнологичное. Если в Польше с начала 1990-х годов промышленное производство увеличилось вдвое, то в России оно как раз существенно сократилось.
Во вторую очередь - это связано с визовыми затруднениями.
- Фактически, сейчас экспаты работают только в крупных компаниях, которые готовы взять на себя оформление всех необходимых документов, - говорит Гордей Ястребов, старший научный сотрудник НИУ “ВШЭ”. - Потому что иначе тебе приходится ежегодно уезжать на родину и снова получать визу, снова получать разрешение на работу. Это очень сложно.
- Да, год от года получать визу становится все сложнее, - подтвердил Джон Харрисон, главный редактор журнала Moscow Expat Life, лично сталкивавшийся с этой проблемой.
“С 2008 года стало сложнее получить разрешение здесь жить и работать. И вообще, законы сейчас здесь такие, что волей-неволей мы, добрые-честные люди, фактически все здесь живем нелегально! ...Многие не готовы сдавать, например, кровь на сифилис и так далее... Это похоже на унижение, и они просто не будут через него проходить. Потому для одной части - это как потерять свою собственную национальность, понимаете? А без этого сейчас очень трудно получить рабочую визу... Есть люди (высший слой), которые работают в больших компаниях, и им хорошо, поскольку компания за них это все делает. А посередине как бы средний класс. Есть высший средний класс - они тоже нормально к этому относятся, а вот низший средний - они не делают этого. Это же надо самому организовать, а если вы работаете каждый день с утра до вечера, очень трудно бегать по всем этим инстанциям, чтобы получить вид на жительство. На самом деле это очень важно, потому что нет ничего хуже с точки зрения интеграции, чем эти проблемы. Для любой страны, любой системы. Если с самого начала, чтобы здесь жить, вы вынуждены находиться на нелегальном положении”. (Великобритания, редактор журнала.)
ЗАЧЕМ ОНИ ЕДУТ?
- В первый год жизни России все экспаты думают: “Куда я попал?” Во второй год пытаются что-то изменить. А в третий год они либо смиряются с действительностью, либо уезжают, - обрисовал изменения, происходящие с иностранцами в России, Михаил Виноградов, президент Фонда “Петербургская политика”.
Впрочем, средний срок нахождения в России опрошенных экспатов составил семь лет. Это свидетельствует о том, что Россия оказалась привлекательной страной для этих людей. Так чем же привлекает Россия? Обычно - деньгами или карьерным ростом.
“Сильной интеграции сейчас не происходит, люди закрытые. Раньше были более открытые, они приезжали сюда: “Ах, музыка! Ах, культура!” Они влюблялись в Россию в 1980 - 1990-е годы. Сейчас люди не ищут, их волнуют только деньги... Россия сама стала более прагматичной, не такой интересной. Сейчас, конечно, люди приезжают, прежде всего чтобы зарабатывать деньги, - у них других целей нет. Есть, конечно, ряд мужчин, которые хотят найти русских жен, любовниц, это тоже бывает. Какой-то HR-компанией проводилось исследование, очень смешное. Выяснилось, что у 30% экспатов жены испуганы тем, что их мужья будут соблазнены русскими женщинами”. (Великобритания, редактор журнала.)
“Когда появилась интересная вакансия в России, я долго думал, нужно ли мне менять стабильную, хорошую работу в Германии на adventure в России. И решил это сделать в 2003 году - сначала работал как рядовой сотрудник, потом стал руководителем. Было бы сложно представить, что за 10 лет в Германии из рядового сотрудника я дорос бы до руководителя. Это один из факторов, почему сюда приезжают иностранцы”. (Германия, топ-менеджер рекрутингового агентства.)
“Думаю, я уже больше никогда не буду жить в Америке. То есть мне нравится быть американцем. И я совершенно точно - американец, был им всю жизнь, но Америка для меня слишком скучна”. (США, редактор интернет-издания.)
ИНТЕГРАЦИЯ И ВОСПРИЯТИЕ РОССИИ
Авторы исследования сосредоточились на классификации экспатов по двум социальным признакам: степени интегрированности в Россию и степени позитивности восприятия России и русских.
Лишь 30% экспатов полностью интегрировались в России. Как правило, это рядовые профессионалы или владельцы малого бизнеса, которые так или иначе были связаны с нашей страной в прошлом (например, получали здесь высшее образование). При этом есть значительная прослойка профессионалов, чья установка - не интегрироваться в российское общество (staying out of society), причем в ряде случаев это не просто установка, но часть их контракта, оплачиваемая работодателем. В их задачи входит радикально изменить сам российский традиционный уклад, сделав Россию похожей на “Запад”. Таких специалистов около 10%. Подавляющая же часть иностранцев нашли точки равновесия в соприкосновении с российской действительностью, но остались при своих внутренних установках.
“Про изоляцию верхнего слоя... Жены высоких предпринимателей и дипломатов не говорят по-русски, они живут совершенно отдельной жизнью. У них есть клубы: British Women Club, Pakistani Women Club и т.д. Все объединены под эгидой Международного женского клуба... Они организуют свои мероприятия, свои культурные программы. Они могут жить здесь очень долго, 10 - 15 лет, и вообще ничего не знать. Они живут в замкнутом мире. Мы взяли недавно интервью у председательницы Британского женского клуба, и она все время говорит о чае: “Где можно купить английский чай в России?” Смешно. В любом магазине”. (Великобритания, редактор журнала.)
“Жить в Москве трудно! Но со временем к этому привыкаешь, учишься с этим справляться. Например, к таким вещам, как ожидание в очередях, необходимость все время делать какие-то ксерокопии, подписи, печати. Бесконечная бюрократия, некомпетентность. Порой абсолютная некомпетентность!” (США, сотрудник отдела исследований в банке.)
“Интеграции помогает обязательное страхование, с которым очень сложно даже некоторым русским разобраться, а не только иностранцам, понимаете? Тут сложнее гораздо, чем в Европе... И нет никакого движения со стороны государства, не видно, что оно старается что-то изменить”. (Восточная Европа, топ-менеджер проектно-строительной компании.)
Экспаты диаметрально воспринимают Россию и русских. Исследование показало существование по крайней мере трех базовых типов восприятия российского общества иностранными профессионалами. Условно типы восприятия России можно обозначить как:
- “в духе холодной войны” (восприятие России как в целом враждебной культуры, которую нужно “перевоспитать”),
- “рационально-прагматическое” (скептическое восприятие перспектив развития России наряду с утилитаристским восприятием современной России, как правило, в терминах выгоды),
- и “допускающее модернизацию” (наиболее ценный тип восприятия, которое, во-первых, заведомо не содержит неприятия российского общества, во-вторых, не рассматривает Россию как статичную систему, в-третьих, ориентирует на конструктивное восприятие российских особенностей).
“В России мальчиков так воспитывают, что они ничего не хотят делать. У нас с женой даже были разногласия по поводу воспитания сына. Предположим, мы сидим и обедаем - и что-то из продуктов кончилось. Я зову сына и говорю ему: иди и купи. Он отвечает, что у него какие-то другие дела, и жена тоже начинает его защищать. Но я требую, чтобы он сделал то, что я прошу. Дети должны служить семье в первую очередь”. (США, владелец транспортной компании.)
“Здесь много свинства: вот купили вы хлеб, красиво накрыли на стол, поели, но потом никому не приходит в голову убрать, даже тому, кто последний из-за стола выходит. Любой ребенок бросает фантики, сигареты. В Германии такого нет. Или когда я в “маршрутке” говорю “спасибо, до свидания”, водитель смотрит на меня как на сумасшедшего, типа “зачем тебе это нужно?”. Когда говоришь тем, кто выбрасывает бутылку на улице, “мне кажется, вы что-то потеряли”, они даже не понимают, что выбрасывать мусор вот так - неприемлемо”. (Германия, топ-менеджер рекрутингового агентства.)
По словам Владимира Карачаровского, мигрантов, категорически не воспринимающих Россию, всего 10%.
ТРУДОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗНИЦЫ КУЛЬТУР
Казалось бы, так ли важно, как воспринимает ли иностранец Россию - враждебно или дружественно? Когда у этого иностранца в подчинении находятся русские - важно.
Как сообщают авторы исследования, область напряженности между российскими и иностранными профессионалами, работающими совместно, возникает вокруг ценностной оси: “инициатива - ответственность - тайм-менеджмент - степень безличности при решении рабочих вопросов”. Экспаты отмечают недостаточную мотивацию российских коллег, нежелание проявлять инициативу, брать на себя ответственность, плохую самоорганизацию (неумение эффективно организовать свое рабочее время), скептическое отношение к корпоративным мероприятиям (часто в этой связи упоминается посещение российскими коллегами различных корпоративных тренингов лишь “для проформы”). Нередко указывают на такую черту, как склонность искать виновного, а не решать проблему.
“Они (русские) работают на результат. Если дать им задачу, они ее сделают. Они очень упорны. В 11 вечера в пятницу люди еще работают. Как-то раз, собираясь на игру, я оставила на работе сумку, вернулась, а они еще сидели работали. Тут возможны два варианта: либо ты абсолютно неэффективен, либо ты одержим своей работой”. (США, менеджер отдела исследований и разработок FMCG-компании.)
“Когда вы вежливо просите русских, это часто не работает, приходится просить дважды и, возможно, даже накричать на другого менеджера... И ведь люди не оскорбляются, они принимают это как само собой разумеющееся и начинают делать то, что нужно”. (Франция, менеджер по работе с ключевыми клиентами во французско-русской газете.)
“Что бросается сразу в глаза - это, наверное, пунктуальность, которой не существует в России”. (Германия, топ-менеджер рекрутингового агентства.)
“Русские стремятся установить некую “вертикаль власти”, иерархию... Если кто-то является начальником, то у него всегда найдется свой начальник, понимаете? При этом начальник воспринимается как Начальник - он все знает и не может совершать ошибки. (США, редактор интернет-издания.)
“В России люди слишком краткосрочно думают. Я недавно даже из интереса опрос делал среди своих сотрудников, и спрашивал: “Представьте, вам предлагают повышение зарплаты на 300 долларов в этом месяце или на 600 долларов через год, на что вы согласитесь?” И в России большинство сотрудников говорят, что взяли бы 300 долларов в этом месяце. Любой немец подождал бы год, и тогда у него было бы в два раза больше. А вот еще: “Представьте ситуацию “А”: ваша зарплата в год 50 тысяч долларов, а ваши коллеги в офисе зарабатывают по 25 тысяч долларов в год. И ситуация “Б”: ваша зарплата 100 тысяч долларов, а в остальных компаниях зарабатывают по 200 тысяч долларов - в какой компании вы хотели бы работать?” Так в России в основном выбирают работать там, где будут зарабатывать больше, чем остальные”. (Германия, топ-менеджер рекрутингового агентства.)
“Есть вопросы, которые должен решать определенный человек в компании. Но в России очень часто люди с себя вопросы переправляют трем другим и смотрят, кто сделает”. (Восточная Европа, топ-менеджер проектно-строительной компании.)
“Они (русские) собирают огромное количество данных, информации, приходится постоянно делать письменные отчеты, но зачем? Они же (отчеты) не содержат никакого анализа!” (США, менеджер по технологическим операциям FMCG-компании.)
В свою очередь, критика россиянами иностранных коллег строится вокруг таких качеств иностранцев, как “мышление готовыми шаблонами наряду с уверенностью в собственной правоте”, избыточная скрупулезность в текущей работе, необоснованная бескомпромиссность в следовании правилам, даже если это противоречит целесообразности. Частый пункт критики - “безличное” отношение к работе и несклонность учитывать различного рода “личные обстоятельства” или использовать в отдельных случаях индивидуальный подход при решении рабочих вопросов.
ИНОСТРАНЦЫ-РАБОТОДАТЕЛИ
По характеру, глубине и направленности влияния на развитие российских компаний исследователи разделили экспатов на три типологических группы: “идеологи”, “утилитаристы” и “модернисты”. “Идеологи” - это те, кто выполняет в России своего рода “социальный заказ” и стремится внедрить западные модели управления, воспринимая их как единственно верный образец. “Утилитаристы” - это те, кто приехал в Россию из личных прагматических соображений (карьера, деньги) и рассматривает пребывание в России в основном с точки зрения выгоды. “Модернисты” - это те, кто воспринимает свою работу в России как миссию - найти принципиально новые точки соприкосновения с российской культурой, построить новые модели эффективной работы.
- От того, к какому типу относится руководитель, зависит судьба коллектива, - говорит Карачаровский. - Возьмем традиционную претензию к русским - отсутствие пунктуальности. Большинство иностранных руководителей оказывались шокированы тем, что им никаким образом не удается заставить российских работников приходить на работу вовремя. В одной компании руководитель-“идеолог” сначала разделил менеджеров на “лучших” и “худших”. Некоторые из “худших” подтянулись, остальных уволили. В целом компания стала более “западной”. В другой же компании руководитель-“модернист” просто ввел свободный график, обязав сдать работу к определенному сроку. И в результате все сделали работу хорошо и в срок, и показатели компании улучшились.
“Раз в неделю я также устраиваю немецкий завтрак, сам пеку хлеб, приношу немецкие колбаски и угощаю всех, кто приходит в офис в полдевятого. Тем, кто приходит позже, ничего не достается”. (Германия, топ-менеджер рекрутингового агентства.)
“В Штатах если работа начинается в 10 утра, то вы должны быть там в 10 утра, и причины опоздания никого не волнуют. В моей компании, если шофер опаздывает на полчаса, я вычитаю 1000 рублей из его зарплаты... У нас абсолютно неприемлем никакой уровень алкоголя: если он хотя бы немного превышает нулевую отметку, то мы прощаемся с этим водителем, и он приходит только через неделю. Соответственно, это тоже сказывается на его зарплате. И знаете что? Я получаю множество писем благодарности от жен моих водителей, потому что их мужья бросили пить...” (США, владелец транспортной компании.)
“Если вы хотите бороться с опозданием на работу, тогда вы должны быть на работе раньше всех. То есть нужен личный пример. Но здесь ведь как получается: “Я руководитель, у меня есть привилегии, я делаю, как хочу, а вы приходите, пожалуйста, как положено”. Ну и штрафы какие-то вводить. Но эта система штрафов тоже не работает. Я думаю, что отчасти с опозданием удалось справиться благодаря переходу на flexible time, когда ты приходишь на работу, когда хочешь, но главное - сделать работу”. (Германия, представитель топ-менеджмента рекрутингового агентства.)
ПЛЮСЫ
Однако не стоит думать, что работа с россиянами приносит иностранцам лишь огорчения, компенсируемые высокой заработной платой. В суждениях иностранных работников о российских коллегах можно выделить две группы положительно оцениваемых качеств. Первая группа охватывает некий “среднерусский набор”: отходчивость, изобретательность, умение мыслить нешаблонно, стойкость в бедственных ситуациях, усердие и трудолюбие. Вторая - отражает инструментальный набор, необходимый для адаптации к реалиям российской жизни: умение преодолевать бюрократические препоны, обходить строгие правила, не драматизировать ситуацию, а также - стрессоустойчивость и терпеливость. Да и сами руководители приобретают новые качества во время работы в России.
- Один из опрошенных экспатов рассказал, что именно в России он стал хорошим антикризисным менеджером, - пояснил Карачаровский. - В спокойной и стабильной Европе просто негде взять столько практики.
Многие из опрошенных экспатов отметили, что именно Россия привила им способность работать в экстремальных ситуациях, умение приспосабливаться к существенному изменению планов, иметь запасной вариант действий, индивидуальный (в противовес “безличному”) подход к работе в коллективе, умение достигать компромисса, осторожность, нешаблонное мышление.
“Да, я стал более русским. У меня даже появилось две разных пары обуви: в одной я еду на работу, в другой - хожу по офису. Раньше я вообще не ходил в баню, но сейчас мне это даже нравится. Я также, наверное, гораздо охотнее трачу деньги, чем в Германии. Там мы привыкли копить до смерти. А здесь, в России, не думают, что через 20 - 30 лет с тобой будет. Наверное, когда ты живешь в России, склонность к риску возрастает... Или вот еще. Например, в Германии я ни за что не стал бы покупать недвижимость, если бы пришлось бегать с мешком денег через город, чтобы заложить их в какую-то ячейку в банке, потом договариваться, у кого будут храниться ключи, как быть, если какая-то бумага потеряется, и т.д. А здесь это - обычное дело. Да любой немец с ума бы сошел!” (Германия, топ-менеджер рекрутингового агентства.)
Продолжение темы следует
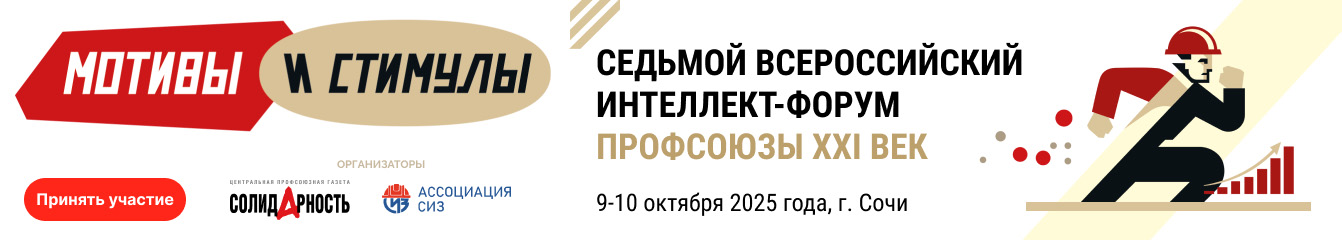










Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь на сайте
Если вам не пришло письмо со ссылкой на активацию профиля, вы можете запросить его повторно