Если начинать статью формально, то “в первых строках” нужно написать, что “17 мая в Волгограде прошел пленум Центрального совета Горно-металлургического профсоюза России. Главными вопросами стали - социальные последствия реструктуризации предприятий горно-металлургического комплекса России и проект отраслевого тарифного соглашения”. Если же говорить по существу, то лично я впервые услышал качественно новую, профсоюзную аргументацию по традиционным темам. Причем аргументацию, которая может быть использована не только профорганизациями металлургической отрасли, но и - с таким же успехом - например, профсоюзами машиностроения, “пищевки”. В чем суть дела?
В ПЕРВОМ ПРИБЛИЖЕНИИ
Металлургия сейчас - весьма прибыльное занятие. Во всяком случае, для работодателя. Например, если в 2001 году прибыль в металлургическом комплексе составила 98,8 млрд. рублей, то в 2003-м она уже была на уровне 204,6 млрд. А в 2004 году поднялась аж до 454,3 млрд.!
Зарплата работников тоже, конечно, растет. Но каждый раз, при проведении коллективных переговоров, профорганизации сталкиваются с классическими аргументами собственника.
Среди этих аргументов, на первом месте стоит “низкая производительность труда”. Смысл такой: мы тут все вместе зарабатываем средства, но работаете вы, граждане, неинтенсивно. Вот когда по-настоящему засучите рукава и деньги польются рекой - тогда сможем качественно приподнять зарплату. Причем обычно этот аргумент используется в сочетании с угрозой сокращения персонала. Грубо говоря, троих выгоним - двум оставшимся повысим зарплату. (Исходя из этой логики, с 2000 по 2004 год из отрасли было “высвобождено” около 176 тысяч человек. А в ближайшие годы, по прогнозам Минпромэнерго, будет “высвобождено” еще 200 тысяч.)
Другая тема, которую активно эксплуатирует работодатель, - необходимость реструктуризации производства и осуществление модернизации с использованием полученной прибыли. При этом реструктуризация - это выведение в отдельные предприятия сервисных центров, ремонтных баз и т.д. А модернизация, понятно, - обновление производственных мощностей.
Ну и последнее, что звучит от работодателя, - это рассказ о том, что зарплату и без того уже подняли достаточно высоко. Как говорится, “выше только звезды”...
Логика работодателя понятна. Участники пленума ГМПР попробовали разобраться в ситуации. И вот тут обнаружились интересные подробности.
МОДЕРНИЗАЦИЯ
Как известно, производительность труда зависит не только от того, насколько интенсивно эксплуатируется (или “самоэксплуатируется” в попытках прокормить семью) работник. Вопрос еще и в том, насколько современны орудия производства.
ГМПР выяснил, что как раз орудия-то и далеки от совершенства. Даже там, где формально заявлено о проведенной модернизации, на деле не все гладко. Выступивший на пленуме с докладом председатель профсоюза Михаил Тарасенко привел характерный пример: на металлургическом заводе в Кузбассе введены в действие две новые мартеновские печи, строительство обошлось примерно в 9 млн. долларов. Но деньги были заплачены за морально устаревшее еще в прошлом веке оборудование. Причем - в такой “конфигурации”, которая негативно влияет на здоровье работников.
Другой аспект - многие собственники банально не понимают, что благоприятная конъюнктура на рынке не навечно. В результате прибыль растет быстрее, нежели инвестиции в производство. Пример: в 2003 году инвестиции в производство составили в отрасли 86,4 млрд. рублей, а в 2004-м - 133 млрд. Притом что прибыль увеличилась в 2004-м более чем вдвое. То есть качественно тратиться на обновление производства собственник не очень хочет. А потратиться, кстати, придется: по расчетам Минпромэнерго, в год российская металлургия требует около 158,3 млрд. рублей инвестиций, а на 2005 - 2010 годы нужна общая сумма в 950 млрд. рублей.
Еще нюанс. Во всем мире одним из основных источников средств, предназначенных для модернизации производства, выступают амортизационные отчисления. Но для России и здесь имеется “особенность”. Дело в том, что эти отчисления рассчитываются исходя из стоимости основных фондов предприятия. А у нас собственник всеми правдами и неправдами стоимость этих фондов занижает. Логика понятна: меньше стоят фонды - меньше платить налогов. На практике выходит, что если, например, в Японии доля амортизации в структуре затрат составляет около 14%, в Германии - около 9%, то в России - около 5% (в цветмете) и 2% (в черной металлургии). Результат - недополученная амортизация ушла в прибыль собственника, предприятие осталось без технического перевооружения. Вот только такие сегодняшние “выигрыши” являются, по сути дела, кражей перспективы развития предприятия.
Удивительно, что подобный анализ перспектив развития отрасли делает профсоюз, а не профильное министерство. Впрочем, по словам Михаила Тарасенко, департамент промышленности Минпромэнерго заявляет, что они не полномочны оценивать перспективы не принадлежащей им (государству) частной собственности. Таким образом, получается, что в отраслевую перспективу сегодня смотрит не государство, а профсоюз. И не только пассивно “смотрит”, но и предлагает вариант развития. Например, создание отраслевого фонда модернизации под управлением общественного совета (государство - работодатели - профсоюзы), который формировался бы за счет отчислений от прибыли предприятий. Дело только в наличии политической воли у государства.
Можно, конечно, задать вопрос: а не все ли равно профсоюзу, что там происходит с модернизацией предприятий? Как говорится, “наше дело - рост зарплаты, а остальное от лукавого”. Все так, но мне кажется, что профсоюз должна волновать не только сегодняшняя зарплата, но и перспектива завтрашней. И не только сегодняшние условия труда работника, но и в каких условиях он будет работать через пару лет. И в этом смысле не нужно занимать позицию, извиняюсь, “временщика”, которому безразлична как судьба предприятия, так и собственные перспективы. Другое дело, что “светлое будущее” не должно означать отказа от достойной зарплаты сегодня. Совместить эти параметры трудно. Собственно, поэтому тема модернизации на пленуме рассматривалась вместе с темой уже происходящей на предприятиях реконструкции производства.
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
По существу, реструктуризация на предприятии отрасли означает выделение сервисных, ремонтных, транспортных и т.д. служб в отдельные подразделения. Явление нередкое и для других отраслей. В результате работники всех этих служб, ранее числившихся “внутри” единого предприятия, выводятся “вовне”, службы становятся отдельными юридическими лицами и пускаются в “свободное рыночное плавание”. А отношения с бывшим “единым предприятием” строятся на той же рыночной основе.
Преимущества для работодателя понятны: он может снять с себя ответственность за выведенные структуры (и за работников) в случае, если они окажутся, например, не в полной мере обеспечены заказами.
Но есть и другие, неявные бонусы, о которых говорили профсоюзники. Пример. С помощью реструктуризации работодатель может легко добиться повышения средней зарплаты на предприятии, не потратив ни копейки. Ведь “реструктурируются”-то обычно работники, зарабатывающие меньше, чем занятые на основном производстве. Теперь же их зарплата не учитывается в общем фонде оплаты труда, и “средняя температура по больнице” (средняя зарплата оставшихся) существенно увеличивается. Элементарный “крекс-пекс-фекс”. Результат: работодатели утверждают, что зарплата на горно-металлургических предприятиях, уже подвергнувшихся реструктуризации, за последние годы выросла на 40%, а профсоюз насчитал реальный рост в 10 - 15%. Разница, однако!
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ
У меня получилась такая картинка. В отрасли образовалась сверхприбыль, которую далеко не все собственники готовы потратить на улучшение оборудования или повышение зарплаты работникам. Вместо этого с помощью “лукавой цифры” трудящимся рассказывают истории о том, как трудно в условиях конкуренции повышать зарплату, и что им (трудящимся) нужно бы интенсивнее работать, а сейчас деньги уйдут в обновление производства. При этом, даже несмотря на прошлогодний рост инвестиций, опять-таки, далеко не все собственники эти деньги в производство реально вкладывают. Находятся и другие “первоочередные нужды”: футбольные клубы, иностранные предприятия и т.д. Государство же смотрит на все происходящее “широко закрытыми глазами” и никак не найдет в себе силы хотя бы для прогноза, к чему приведет такой алгоритм развития отрасли.
А ПРОФСОЮЗ?
Описанная выше ситуация, по существу, есть серьезнейший вызов для Горно-металлургического профсоюза России. И мне показалось, что собравшиеся на пленуме профсоюзники как раз и воспринимают такое положение как вызов. Причем как на отраслевом, так и на - если можно так сказать - структурно-профсоюзном уровнях.
Не секрет, что любая реструктуризация может обернуться раздроблением ранее единой профорганизации на множество мелких и, что скрывать, бессильных профячеек. Именно поэтому ГМПР зафиксировал качественную позицию: сохранение единой профорганизации при проведении реструктуризации. На пленуме говорили об опыте профорганизаций Магнитогорского металлургического комбината, “Северстали”, “Русского алюминия”. Например, в ходе реконструкции Кузнецкого металлургического комбината производственная структура разделилась на девять самостоятельных, независимых предприятий. А первичная профорганизация “Кузнецкие металлурги” объединила работников этих независимых юридических лиц в единой профструктуре, что позволило сохранить силу и мощь организации. По тому же пути пошли практически все профорганизации “Суал-холдинга”, Качканарского горнообогатительного комбината.
Однако приводились и негативные примеры. Скажем, “сбрасывает” комбинат всю социальную инфраструктуру в муниципальную собственность, а профорганизация под видом передачи в другой профсоюз, по сути дела, “сбрасывает” членов профсоюза. На предприятии “Уральская сталь” в 2004 году в процессе реструктуризации были выделены в самостоятельные предприятия структуры, в которых работало около 900 членов профсоюза. Из-за пассивности профкома люди для профсоюза были потеряны: здесь - сняты с профучета, а в новой организационной форме - на учет не поставлены. Профорганизации - развалились. Новый состав профкома “Уральской стали” ведет работу по возвращению на учет бывших членов профсоюза, но теперь это сделать существенно труднее.
Проблем у ГМПР много. Но в этом смысле о позиции профсоюза лучше всего, наверное, говорит лозунг Международной федерации металлистов, цитировавшийся на пленуме: “Если мы начинаем борьбу - мы можем проиграть, однако не начав борьбы - мы уже проиграли”.
Александр ШЕРШУКОВ
P.S. Много качественных вопросов, к сожалению, не вместилось в рамки статьи. Отдельной темой обсуждения стал проект нового тарифного соглашения, подготовленный профсоюзом. Но это значит, что есть повод вернуться к теме.
Хочу сказать отдельное спасибо организаторам пленума, председателю ГМПР Михаилу Тарасенко, председателю Волгоградского облсовпрофа Вячеславу Кобозеву, председателю профкома “Волжского трубного завода” Юрию Бересневу и всем профактивистам ГМПР, с которыми удалось содержательно поговорить до, во время и после пленума.
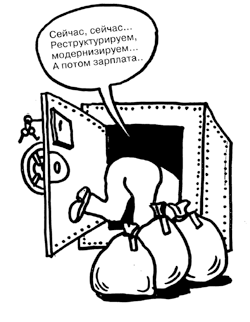

Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь на сайте