Процесс присоединения России к ВТО ускоряется. Слуги народа принимают законы, необратимо втягивающие РФ в систему глобального разделения труда. В конце сентября депутаты одобрили в первом чтении два знаковых законопроекта.
Первый – поправки к Уголовному кодексу – причисляет все преступления против интеллектуальной собственности к тяжким, за которые будут сажать. Второй – новая, четвертая часть Гражданского кодекса – определяет, что понимать под интеллектуальной собственностью. Последний проект вызвал столько вопросов и претензий, что законодательный комитет Госдумы вынужден был провести 5 октября парламентские слушания…
Уголовные санкции за нарушения в сфере интеллектуальной собственности на слушаниях обсуждались мало, так что, похоже, сажать станут всех “пиратов” – это дело решенное. Экспертов и законодателей больше волновали основания, по которым за “пиратство” можно “привлечь”, и кто будет определять характер этого процесса. Оказалось – как всегда, чиновники… Но подводных камней в проекте ч. 4 ГК РФ так много, что даже эксперты, как они признавались, далеко не все могут понять.
В настоящее время защита интеллектуальных прав регулируется в России шестью законами, основные положения которых предполагается “телепортировать” в новую статью ГК (пока это выражено в отмене законов в сфере авторских и смежных прав, ну, а потом как-нибудь систематизируют). Процесс долгий, что признают и сторонники проекта, правительственные чиновники. Зампредседателя совета Исследовательского центра частного права при президенте РФ Александр Маковский покритиковал оппонентов, говорящих о том, будто новая ч. 4 ГК из-за несоответствия международным конвенциям станет главным препятствием для принятия России в ВТО. Но признал, что по этому вопросу возникли трения с США: “Американцы прямо говорили нам, что не хотят видеть радикальных изменений в российском авторском праве”. Вместе с тем зампред думского комитета по экономической политике Алексей Лихачев считает, что к проекту поступит “около 1000 предложений”.
Многие известные люди выступили против самой идеи включения норм о защите авторских прав в ГК. Советник Конституционного
суда Михаил Федотов полагает, что в проекте слишком много норм административного права, которые не имеют отношения к гражданскому законодательству. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Людмила Нарусова посетовала на келейный характер подготовки законопроекта: “Это напоминает мне всеобщий “одобрямс”. По ее мнению, проект противоречит Конституции РФ, в рамках которой правовое регулирование интеллектуальной собственности вынесено за рамки гражданского законодательства, и “в итоге мы снова окажемся в правовом вакууме”. “Этот вопрос может стать предметом рассмотрения Конституционного суда!” - пригрозила Нарусова. Абсурдность ряда пунктов проекта она обосновала так: “Если кто-то захочет выпускать корм для собак под названием “Каштанка”, то ему придется испрашивать согласия у наследников Чехова!” На это глава законодательного комитета Павел Крашенинников заметил, что законопроект был внесен президентом РФ и в первом чтении его представлял первый вице-премьер Дмитрий Медведев. И повторил, что “новые нормы об интеллектуальной собственности, включенные в ГК РФ, отвечают российской традиции, позволяют обеспечить большую ясность и согласованность в этой сфере. Проект устраняет расхождения и про-
тиворечия между действующими нормами законодательства”. Ну, а пока особая рабочая группа по доработке законопроекта изучает поступающие поправки…
Напомним, что 20 сентября Дума приняла в первом чтении поправки к ст.ст. 146 и 180 УК РФ (об усилении ответственности за нарушения авторских и смежных прав), переводящие преступления против интеллектуальной собственности в разряд тяжких (сейчас – средней тяжести), что исключает возможность замены тюремного заключения условным наказанием.
Предлагается повысить максимальную ответственность за нарушение авторских и смежных прав, как и за использование товарного знака, знака обслуживания и наименования места происхождения товара, до 6 лет лишения свободы (сейчас - до 5 лет). Исходя из того, что любой страж порядка трактует законы по-своему, можно предположить, что в жертву идолу, именуемому “интеллектуальной собственностью”, принесут многие тысячи наших граждан. И никакие ритуальные думские амнистии “пиратов” не затронут, а недовольным быстро объяснят, что “копирайт” есть всемирная религия нашего времени…
Вадим БАРАБАНОВ
Фото Николая ФЕДОРОВА
На фото - торговля "пиратскими" копиями фильмов в столице - дело привычное
МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ
Алексей ЛИХАЧЕВ (“Единая Россия”):
- Это системообразующий документ, новое слово в юридической науке и правоприменительной практике. Удалось добиться главного - устранить разрозненность и изолированность целой части гражданского законодательства. Без сомнения, документ будет иметь огромное влияние и на гражданские правоотношения, и на экономику, и на правоприменительную практику в уголовной сфере. Мир изменяется, изменяются и правоотношения в сфере интеллектуальной собственности. А принятие этого законопроекта позволит унифицировать отладку данного законодательства, что лучше делать в одном документе.
Анализируя проект на этапе подготовки ко второму чтению, мы должны уделить внимание следующим моментам. Первое - это корреляция соответствующих норм в разных отраслях законодательства: гражданском, уголовном, а также в законодательстве, которое прописывает методы госрегулирования в сфере интеллектуальной собственности. Нужно будет немало поработать с правоприменителями, поскольку правоприменительная практика у нас хромает. Хотелось бы, чтобы и правоприменители, представители судебной системы участвовали в подготовке законопроекта ко второму чтению.
Отдельный разговор - анализ документа на соответствие принятым Россией международным обязательствам. Они должны неукоснительно выполняться. Что же касается присоединения к ВТО и соответствия базовым положениям ТРИПС, положениям ВТО, то скажу следующее. На переговорах о вступлении перед нами ставятся вопросы не о структуре и количестве российских законов, а о защите объектов интеллектуальной собственности в РФ, что соответствует и ключевым интересам российских экономических операторов и государства. Поэтому мы ведем и будем вести дискуссию. Концептуальных расхождений с базовыми нормами международных соглашений, которые регулируют защиту и правоприменение, связанные с интеллектуальной собственностью, нет.
Небольшие поправки при подготовке ко второму чтению, естественно, могут быть, и, думаю, есть смысл в этом направлении поработать с нашими международными партнерами. Стоит также предусмотреть длительный переходный период, но хотелось бы, чтобы это было не просто время, отпущенное для подготовки, а чтобы оно было наполнено серьезной разъяснительной и организационной работой.
Михаил МАРКЕЛОВ, фракция «Родина – НПС»:
- В Думе все понимают политический подтекст этого законопроекта, связанного прежде всего со вступлением или невступлением в ВТО... Идея усиления судебной защиты интеллектуальной собственности, предусмотренная проектом, не очень согласуется с требованиями к вступлению России в ВТО, в соответствии с которыми ведущую роль должны играть силовые структуры, занимающиеся уголовным преследованием, а не суд. Проект же позволяет изымать и уничтожать контрафактную продукцию, конфисковывать оборудование и даже ликвидировать фирму-нарушителя только по решению суда. В связи с отменой специальных законов в области интеллектуальной собственности проект может сломать сложившуюся правоприменительную практику. Она нуждается в совершенствовании, но ее разрушение может привести к оттоку инвестиций из интеллектуальных сфер экономики, впоследствии – к стагнации этих сфер и, в целом, к разрушению интеллектуального потенциала России.
Вообще-то, данный законопроект принципиально меняет сложившуюся логику регулирования. С так называемого двухуровневого регулирования гражданских правоотношений с помощью Гражданского кодекса и специальных законов предлагается перейти на одноуровневое, с помощью исключительно ГК. Позиция спорная. Объединение законов об интеллектуальной собственности в рамках ГК редко встречается в законодательствах других стран, для большинства характерно наличие законов, регулирующих каждую сферу отдельно.
При этом проект во многом противоречит международным соглашениям, участником которых является Россия. Он дает любому заинтересованному лицу возможность защиты права на имя и авторство после смерти автора. Создается потенциальная возможность заявления требований неоправданно большим числом третьих лиц, считающих, что были тем или иным образом нарушены интересы умерших авторов. Или, грубо говоря, человек написал книгу и, не дай бог, скончался - тут и появляются некие третьи лица, которые говорят: мол, мы когда-то помогали писать эту книгу. И вот попробуйте с ними в рамках закона договориться!
Статья 1253 проекта содержит нормы административного права, включение которых в ГК противоречит его базовым принципам, четко проводящим границу между гражданскими правовыми отношениями и отношениями, основанными на административном подчинении. Данная статья вводит новые для этой отрасли права понятия, применение которых потребует ряда разъяснений и дополнений. Понятие грубого нарушения исключительных прав перекликается по смыслу с изложенным как в КоАП, так и в УК, что может неблагоприятно сказаться на правоприменении и сложившейся судебной практике. Кроме того, понятие грубого нарушения без точного определения размера крупного ущерба неработоспособно с точки зрения правоприменения.
Представляется целесообразным дополнить статьи проекта режимом перехода произведений в общественное достояние до истечения срока действия авторского права по воле самого автора. В ст. 1259 в качестве самостоятельного объекта предлагается закрепить такой объект, как персонаж. Но в тексте проекта определения данного термина нет. Это понятие субъективное. В правовой литературе идут споры относительно набора признаков, которыми можно охарактеризовать персонаж. Выражение персонажа в объективной форме делает его тождественным одному из традиционных объектов - либо это изображение, либо это литературное произведение и т.д. На практике возможны попытки защитить идею персонажа, тогда как авторское право традиционно охраняет лишь только внешнюю форму.
Об ответственности по договорам, заключаемым автором произведения: теперь издателю, чтобы добиться привлечения автора к ответственности за неисполнение договора, необходимо доказывать вину автора. На практике это сделать трудно, потому что автор, даже при наличии доказанной вины, может попытаться доказать наличие творческой неудачи и, скорее всего, будет освобожден от ответственности. Творческая неудача - понятие субъективное. Например, человек говорит: меня не посетила муза. Вот и попробуйте эту музу привлечь к ответственности! Такой подход разрушает сложившуюся деловую практику и фактически попустительствует неисполнению обязательств по договорам.
Проект, в отличие от закона о защите авторских прав, не ограничивает право автора на неприкосновенность произведений по такому критерию, как ущерб чести и достоинству автора. Отсутствие пределов осуществления автором данного личного права может привести к злоупотреблению этим правом и сделать затруднительным осуществление такого исключительного права, как право на переработку.
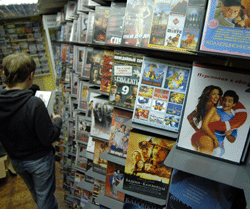

Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь на сайте