
Модернизация здравоохранения на собственной шкуре
Случился тут со мной неприятный казус. Как говорится, ничего не предвещало беды, стояла тихая Варфоломеевская ночь, была пятница тринадцатое. Поехали с друзьями отдыхать на дачу, в одну из близлежащих к Москве областей. И надо же такому случится, ломаю палец на руке. Естественно отдых летит ко всем чертям. Срочно собираемся и едем в «центральный» город , той самой области, або и ибо до Москвы гораздо дальше. Да и сомнений в профессионализме врачей, в независимости от их местоположения, будь то Москва, или скажем Лабытнанги, у меня, как у человека не чуждого этой отрасли, нет. Врач, он везде врач. К тому же, вольно или не вольно, приходится постоянно слышать, читать, перепостить высокие слова от властьдержащих о модернизации, информатизации и т.д. Однако действительность оказалась куда плачевней, чем все высокопарные высказывания.
Станция скорой помощи и травмпункт , в том уездном городе N, в который мы прибыли, скажем так, выглядит неказисто. Как снаружи, так и внутри. Ремонтом здания даже не пахнет, ни снаружи, ни внутри. Обшарпанные стены, скамейки с той самой дерматиновой обивкой, с которой их и покупали еще при «царе горохе». Людей не много, три-четыре человека, так что моя очередь подошла достаточно быстро. Кабинет травматолога модерновостью не удивил, другого почему-то я и не ожидал, после увиденного снаружи и внутри «травмы». Старые стулья и столы. Никаких компьютеров, или хоть какой-нибудь оргтехники (почему-то сразу же представился красный, дисковый телефонный аппарат, на том же столе, однако он оказался хоть и стареньким, но кнопочным). Все делается по старинке. Рентген – ну точно таким же мне маленькому очередную травму ноги, в далеких уже сейчас 90-х, просвечивали. Год выпуска – 198-какой-то (и это в лучшем случае). В перевязочной гипс (не тот удобный новый, к сожалению не запомнил названия, и уж естественно без нанотехнологий), нормальный советский гипс, таким, если по кирпичу стукнуть, кирпич сначала краснеет, устыдившись собственной легкости и непрочности, а потом разваливается. Бинты под стать. Потихоньку расползаются во все стороны.
Разговорился с работниками, которые поведали и о заработной плате. Скажем так у медсестер около 5000, а у врачей 10 000 рублей, она не превышает. Чтобы было хотя бы столько или чуть больше, им приходится пахать от заката и до рассвета. «Модернизацию нашу вы сами видите, - рассказала мне одна из медсестер. – Вот накладываю вам гипс, а самой стыдно, я-то уж думала, что с таким мне работать уже не придется». На вопрос, а как же модернизация и все прочее она ответила честно: «Да в какие-то больницы кое-что завезли, где-то на показ перед ООчень высоким руководством, где-то и действительно поставили. А нам не дали на данный момент ничего. Вы же сами видите, в каких условиях приходится работать. И хорошо, что сегодня народу мало. А так что ни выходные в нашей глуши драки, а это и порезы и рассечения и такие переломы что ни в одном кино не покажут, настолько жутко становиться. А мы работаем…. Да так, как работаем. Ведь ни наши проблемы с зарплатой, ни условия в которых приходится принимать людей, не волнуют ни пациентов, которые почему-то думают, что и нам комфортно работать на устаревшей технике и в облезлых кабинетах, ни высокому городскому начальству, так как они-то уже отчитались».
Так что милые господа и дамы, придя в свою больницу, поликлинику, травматологию, не стоит хмурить брови на недостатки, этого, безусловно, богоугодного заведения, а понять, что врачи и рады бы обслужить вас по полному разряду, на лучшей технике, с улыбкой, и быстро. Да только техники той, которую обещали - нет, улыбку скрадывает мысль о том, что завтра будут есть дети, а голова сама по себе занята мыслью – откуда же взять дополнительных часов. И как не уснуть после второй, а то и третьей смены.
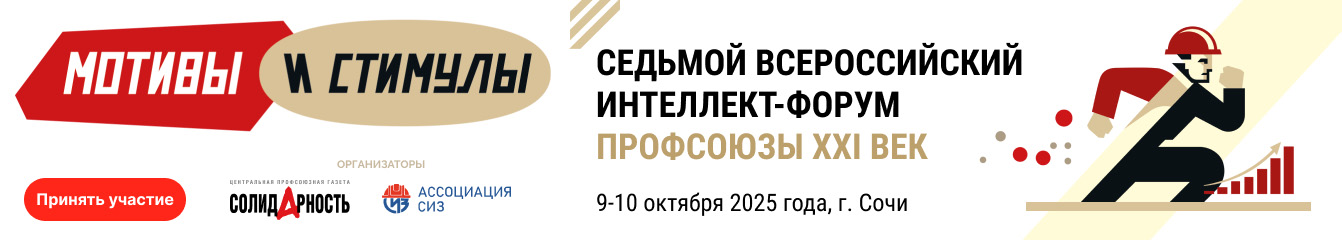







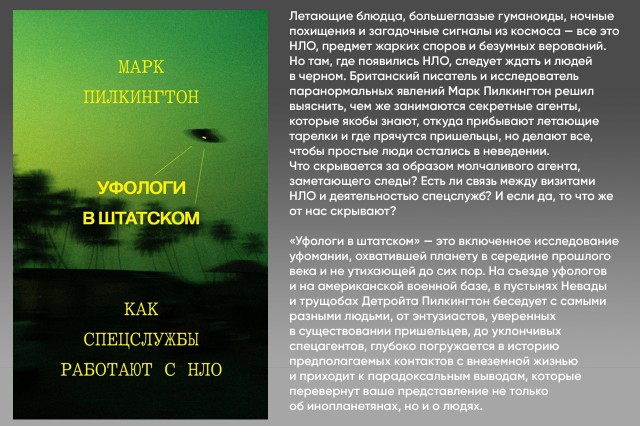
-коммерческое суррогатное материнство, запрещенное в европейских странах;
- политика контроля над рождаемостью как государственная политика планирования семьи (используется в перенаселенных странах для сокращения рождаемости);
- принудительный секспросвет («право на информацию») без разрешения родителей;
- донорство органов недееспособных, право распоряжаться органами умерших со стороны администраций интернатов;
- ограничение бесплатной помощи и отсутствие четко прописанных гарантий;
- ограничение прав родителей на контроль за здоровьем своего ребенка;
- детская трансплантология;
- принудительные аборты и принудительная стерилизация тех, кого чиновники запишут в невменяемые;.
В новом законе вообще ничего не говорится о кадрах. Медики, которым предстоит реализовывать этот закон на практике, совершенно им не мотивированы. Ими откровенно пренебрегли в пользу материальной базы, а в целом закон совершенно аппаратный, написан для бюрократов. «Мы, мол, начальники, а вы, врачи, будете исполнять»…
А, между тем, вспомним, кто сейчас представляет нашу медицину. Это люди, 50% которых уже в предпенсионном или пенсионном возрасте. Это люди, которые работают с коэффициентом совмещения в 1,6 – 1,7, то есть большинство совмещает несколько ставок, не говоря уже о дежурствах. Просто чтобы выжить при наших мизерных зарплатах, российские медики работают без отпусков, выходных, не имеют времени на повышение квалификации – а в результате мы имеем врачебные ошибки, жертвами которых каждый год оказываются до 60 тысяч человек!
Так вот, подход к кадрам в новом законе абсолютно чудовищный. Например, зафиксирована норма о том, что сразу по окончании медвуза врач может работать с пациентами. Без обязательной по еще действующему законодательству интернатуры или ординатуры! Это, мягко говоря, безответственно.
Еще одна большая проблема – лекарственное обеспечение. у нас всё лекарственное обеспечение делается за счет пациента, лишь 8 – 12% жителей России пользуется бесплатным или льготным лекарственным обеспечением, да и то с перебоями. В России ежегодно на лекарства люди тратят около 500 млрд рублей – такие цифры, господа, означают, что медицина у нас по факту уже платная!
Вообще, новый закон открывает широкие ворота для коммерциализации медицины, потому что разрешает оказывать платные услуги в государственных медучреждениях. Госпитализация частично платная, вся стоматология платная, почти вся наркология тоже. А там, где прописаны в законе бесплатные сервисы, закон не подкрепляет эти обещания финансовым обеспечением. Вы можете получить то-то и то-то – говорит государство – но денег у нас нет. Государственная гарантия финансирования обеспечивается лишь на 60%. Дело в том, что закон переключает организацию здравоохранения с федерального уровня на регионы – по идее, недостачу должен покрывать фонд ОМС. Но 100% покрытия все равно не получится. Только 8 самых богатых регионов в России полностью могут покрыть гарантии по здравоохранению. Остальные этого сделать не смогут.
Основная стратегия антинародного закона: Сбросить с бюджета финансирование здравоохранения. Переложить эти расходы на регионы, медучреждения, а также на самих граждан.
Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь на сайте
Если вам не пришло письмо со ссылкой на активацию профиля, вы можете запросить его повторно